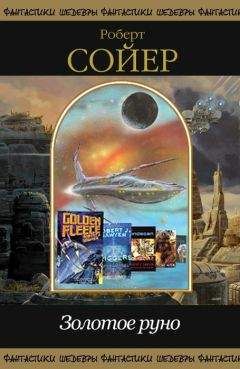Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]
Тот сел и стал переобуваться в валенки.
Когда он надел первый валенок, ему показалось, что там, в самом носке, еще жило тепло от ноги убитого матроса. Он с трудом подавил в себе чувство отвращения к Шалину, торопливо курившему в рукав, к самому себе и к валенкам.
— Скоро рассвет, — заметил Иван, чтобы как-то отогнать мрачные мысли, с приходом рассвета, казалось ему, придет освобождение от всех страхов.
— Да, пожалуй, черт возьми.
— А что так? — удивился Иван.
— До границы не успеем, конечно, но за Питер надо бы зайти засеро, до разгара дня.
— До какой такой границы?
— До финской. Другой ближе нет.
— А на кой она нам? — с тревогой спросил Иван. Он доже перестал одеваться и держал на весу голую ногу.
— Тебя, дурака, забыл спросить!
— Зачем так, Андрей Варфоломеич? Может, я и не ровня вам, а в этом деле сам хочу разобраться. Зачем мне от дома-то…
— Ну и как же ты в этом деле разбираешься? — Шалин сплюнул сквозь зубы и насторожился.
— А так: не пойду я ни в какие Финляндии, и весь сказ!
— Куда же? — спросил Шалин, словно сдержанно рыкнул.
— А на берег. Сдамся, да и домой.
Удар ногой в живот свалил Ивана с куля.
— Так ты что же, сука? Хочешь, чтобы за мной тут же погоню послали? Да?
Иван поднялся, с трудом увернулся от второго удара и отскакал в сторону, утопая голой ногой в снегу. В правом боку, в печени, поднималась острая колющая боль, перехватившая дыхание.
Шалин надвинулся черной согнутой тенью. В его руке тускло блеснул офицерский кортик.
— Андрей Варфоломеич…
Иван отскакнул еще на несколько метров, но это было уже бесполезно: Шалин был рядом. Слышалось его бычье дыхание, но особенно устрашающим было его молчание и решительная неторопливость.
«Конец», — подумал Иван и беспомощно вытянул вперед руку, но нервы не выдержали, и он еще выставил вперед свою голую, закоченевшую ногу.
— Андрей Варфоломеич… Грех на душу… Домой ведь охота…
Широкая зарница дрогнула во тьме Кронштадта, и через несколько секунд мощный, как обвал, грохот залпа пронесся над заливом. Дрогнул воздух, лед и сама тьма.
— Штурм начался! Штурм Кронштадта! Слышь, сермяга! А ну, пойди теперь сдаваться, после-то штурма — стенка!
Он говорил, не разжимая зубов, и с особой сладостью, со звериным вкусом произносил слово «штурм».
Иван все еще предостерегающе держал руку и бормотал:
— Стенка, стенка, Андрей Варфоломеич! Стенка, как не стенка?..
— То-то, дурья башка! Нешто я не дело говорю тебе?
— Знамо дело, Андрей Варфоломеич…
— Неужели ты думаешь, что если бы мы не были земляки, то я взял бы тебя с собой? А?
— Знамо, не взяли бы…
— Одевайся! Что стоишь, как цапля?
Иван, сторонясь Шалина, подковылял к кулю, поправил его и сел надевать валенок.
— Андрей Варфоломеич, погодите чуток — я ногу ототру: зашлась, окаянная…
— Да скорей же: рассвет!
Иван оттирал ногу снегом, а Шалин смотрел на запад и с удовольствием произносил все то же слово: «штурм!»
— Ну и заварушка там сейчас! — сказал ои Ивану. — Ну и каша там манная, ха-ха-ха! Бьют свой свояка, дурак — дурака. Нет, Иван, пока в России-матушке неразбериха, поживем-ка мы в другом месте. Когда в дому скандал, умный всегда выходит покурить во двор. Как ты думаешь? — спросил Шалин.
— Неужели договориться не могли без пальбы? — вопросом ответил Иван, все еще косясь на Шалина.
— Хэ! А ты видел — парламентеры были от Ленина?
— Видел. Сам командующий флотом был.
— А еще был Калинин, тот, что с бородкой-то. Добром наших комитетчиков просили, а вышло видишь что? — Шалин кивнул на пегий от вспышек горизонт и опять с удовольствием начал свое — Штурм! Штурм Кронштадта! Ха-ха! Дождались! Ну и каша там, ну и каша, только — шалишь! — без нашего мяса!
Рассвет застал их вблизи Петрограда, но день выдался пасмурный, серый; ветром переметало по заливу снег, и видимость от этого была плохая. Шалин радовался, но тем не менее он был осторожен и держался с Иваном подальше от берега. Шли, чувствуя большую усталость и голод. Примерно в полдень Шалин вдруг остановился, сунув руки в рукава шинели, осмотрел у себя под ногами снег и рухнул в него боком.
— Отдохнем! — сказал он и свесил голову на плечо. — Развязывай мешок: пожрать пора!
Иван тяжело опустился рядом с Шалиным, развязал боцманский куль и подал тому.
А подстынем мы на ветру-то, — заметил Иван и поднялся, кряхтя.
— Ты чего?
— Сейчас подгребу снежку от ветра, — пояснил он боцману и стал валенками сгребать снег.
— Снежный бастион? Дело! — похвалил Шалнн, но не двинулся с места.
Потом они отдыхали, укрывшись слегка от ветра и сыто наевшись всухомятку. Шалин хвастал, как он растряс камбуз, но сожалел тут же, что мало. Иван слушал и не слушал его сквозь дрему, а на сердце у него была такая же непроглядная муть, как над Финским заливом. Он никак не предполагал, что так скоро, в одну ночь, к нему вплотную приблизится его мечта о доме и так же скоро рассыплется. Опять томила неизвестность.
— Андрей Варфоломеич, а как там, в Финляндии-то, ничего?
— Насчет чего?
— Да насчет стенки?..
— Не должно!
Иван тяжело вздохнул от такой неопределенности и закрыл глаза. За воротник и снизу под шинель подкрадывался ветер, и все тело понемногу начинало стыть.
— Не должно! — убежденно повторил Шалин. — Мы с тобой заявимся туда как гражданские, понял? У меня в мешке и одежда на обоих есть кой-какая. Да если и в военном, так, я думаю, — ничего. А не захотят принять, так мы с тобой в Швецию подадимся. Мир-то, брат, велик…
Иван отцепил патронташ и бросил его в снег.
— Правильно, — кивнул Шалин, — хватит в революции играть да в дурацкие войны. Э-эх, мама! Зачем мне все это было? Торговал бы я сейчас в батькиной лавке, с милахой бы спал, ничего не знал…
— А вы кортик-то тоже бросьте, — посоветовал Иван и отвел глаза, подумав при этом: «Зря не взял винтовку, я бы ему не подчинился ни в жизнь!»
— Успею, — сухо ответил Шалин, и косой разлет его бровей на остром лбу сжался.
После еды, физического и нервного утомления незаметно подкралась к обоим дрема. Ветер стал казаться теплее, тише, не хотелось ни говорить, ни двигаться. Колени невольно поджимались к животу, а спины прилегали одна к другой.
— Вот ведь как, Андрей Варфоломеич, вдвоем-то хорошо. Не зря говорится: одно полено и в печке гаснет, а два и в поле горят, вот ведь как… — тихо бубнил Иван, любивший сказать к случаю народную мудрость по примеру своего деда и отца.
Первым очнулся Шалин. Он торопливо размял затекшее и застывшее тело, глянул на часы, которые стянул еще в семнадцатом году в Петрограде, когда патрулировал в ночь, и хлопнул Ивана по белой спине:
— Вставай!
Тот заворочался, хотел лечь поудобнее, но Шалин встряхнул его и выругался. Иван поднял посиневшее, начинавшее зарастать рыжей щетиной лицо, и в его глазах было столько мольбы, что Шалин даже отвернулся. Он опасался, что Иван опять потянется в Петроград, будет проситься и плакать, поэтому сердито повторял:
— Пора! Пора! Проспали!
Он все еще не глядел на Ивана, и только когда тот поднялся, вздыхая и кряхтя, Шалин повернулся к нему и спросил как можно насмешливее:
— Что? Неохота?
— Так ведь и не охоч медведь плясать, да губу теребят…
— Полно тебе, выкинь дурь-то из башки! Пойдем скорей! Да не распускай слюни-то, не трави себя…
— Да мне ведь разве Питер нужен? Мне на весь на Питер — наплевать-дако! Вы мне вот чего скажите: вернемся ли, успею ли я хоть перед смертью пожить дома, а? Андрей Варфоломеич?
— Полно тебе, говорю! Брось всякие мысли, с ними тяжело нынче. А что до дома — так это ты сможешь скоро обмозговать и обратно вернуться, хоть через год. Только не советую…
— Хорошо бы, как через год-то! — вздохнул Иван и пошел за Шалиным, ступая в его следы.
* * *Пивоваренный завод, где с весны работал Иван Обручев, находился на окраине Гельсингфорса.
Очутившись в чужой стране, брошенный Шалиным, не зная языка и обычаев, он со страхом прошел волокиту эмигрантской законности, потом с большим трудом вымолил место на заводе, отыскал угол для жилья — словом, прежде чем в первый раз на чужбине уснуть спокойно, он сполна хлебнул горького, что всегда выпадает на долю неимущего инородца.
Иван поначалу был особенно рад, что попал именно на этот завод: от кого-то из русских он слышал, что этот завод — бывшего купца Синебрюхова, выходца тоже вроде из тамбовских. Однако ничего российского Иван не нашел на заводе. Кругом были чужие люди со своим языком, одеждой, обычаями. Он замечал, что у них были свои интересы, своя религия и свое безбожие, однако глубоко это его не интересовало, поскольку главного-то на заводе он не нашел: не с кем было отвести душу.